Не знаем, повторяют ли сегодняшние школьники эту фразу из стихотворения Афанасия Фета с таким упоением, как повторяли ее мы. Во времена Фета фраза «с приветом», конечно, имела совсем другое значение, буквальное – пришел и принес «привет». Хотя многие биографы поэта намекают, что он и правда был немного «с приветом» – в том значении, которое это выражение имеет сегодня.
Приходилось даже читать, что его мама, сестра и брат были серьезно больны психически. Мама в конце жизни страдала от жуткой депрессии и просила сыновей застрелить ее, сестра умерла в сумасшедшем доме, никого не узнавая. Поэт тоже имел свои «пунктики», но у него была отдушина – литература. Переполняющие его чувства он изливал на бумаге и таким образом, по мнению его биографов, спасся от семейного недуга и сохранил рассудок.
Когда Фет, уже немолодой, очень знаменитый и совершенно нищий, сделал предложение немолодой, некрасивой и очень богатой Марии Боткиной, он честно рассказал ей обо всех причинах, которые не дают ему жениться. Боткина выслушала, пожалела и приняла предложение. Судя по всему, их брак был идеальным: Афанасий Фет и Мария Боткина были лучшими друзьями, поверяли друг другу тайны и любили друг друга совершенно безусловно. Но самые трогательные, самые проникновенные стихи Фета были посвящены другой женщине – сербке Марии Лазич, с которой он познакомился в Александрийском уезде в 1848 году…
В плену страстей
Мы знаем Фета прежде всего как поэта. Но он написал немало прозы. Странно, но необыкновенно точный поэт, в прозе он был тяжеловесен, читать его трудно. Его проза, в том числе книга «Ранние годы моей жизни», в которой описаны Новогеоргиевск и Елисаветград, где он служил, ценна своей исповедальностью. Фет невероятно, ненормально честен. Поступки, которые Фет-поэт или Фет-человек, безусловно, осудил бы, Фет-автобиограф описывает совершенно беспристрастно. Он не хочет объяснить, не хочет понравиться. Сосредоточенный только на себе и своих страстях, Фет-прозаик вообще не думает о читателе.
История, в общем-то, известная. В начале 1820 года русский дворянин Афанасий Неофитович Шеншин приехал в Германию лечиться. В гостинице мест не было. И Шеншин поселился у Карла Беккера. У Беккера была замужняя дочь – Шарлотта Фёт. Когда Шеншин закончил курс лечения, беременная (!) Шарлотта бросила годовалую дочь и уехала с ним в Россию. В своих воспоминаниях Фет пишет, что Шеншин был очень неласков к жене и детям – такой вот тип человека, который никогда не демонстрирует чувств. Однако Шеншин не только привез беременную немку в Россию, он признал ее сына своим и через год, когда она приняла православие, обвенчался с ней. До четырнадцати лет Фет знал, что он сын дворянина Афанасия Шеншина. Но, когда мальчик поступал в гимназию, его документы проверили и обнаружили, что он родился до брака родителей, когда его мама была женой Иоганна Фёта. В один момент он потерял все: отца, который его растил, дворянство, право на наследство.
Нет, Афанасий Шеншин по-прежнему любил старшего сына. Но теперь уже не мог ничего ему передать. И главной страстью его сына стало возвращение себе дворянского титула, фамилии и богатства. Именно поэтому, окончив философский факультет университета, Фет, уже известный поэт, пошел в армию. Самые известные сегодня стихи- «Я пришел к тебе с приветом», «На заре ты ее не буди» – уже были написаны и изданы. Ненавистная ему фамилия Фет (пишут, что это просто была ошибка наборщика его первого сборника – вместо Фёта он стал Фетом) уже была известна по всей России. А Фет мечтал быть Шеншиным.
Фет пишет:
«- Ну что же? – спросил меня отец. - Надумался ты насчет своей карьеры?
– Надумался, - сказал я, - вам, как опекуну Борисова, известно, что он вместо вступления в академию из артиллерии перешел в кирасиры, и вот он зовет меня к себе в Орденский полк и пишет: “Приезжай, службы никакой, а куропаток столько, что мальчишки палками их бьют”.
– Ну, брат, - заметил отец, - перспектива незавидная. Я надеялся, что из него выйдет военный ученый, а он попросту сказать – куропаточник. Ступай, коли охота берет; будешь от меня получать 300 руб. в год, и отпускаю тебе в услужение сына Васинькиной кормилицы Юдашку, а при производстве пришлю верховую лошадь.
Говорили, что поп в сердцах дал моему будущему слуге имя Иуды. Как бы то ни было, хотя я и звал слугу Юдашкой, имя его много стесняло его, а через него и меня в жизни».
Великому поэту просто ужасно не везло. В 1845 году ему достаточно было дослужиться до офицерского чина, чтобы получить вожделенное дворянство. Но еще до производства Фета в корнеты вышел царский указ, по которому потомственное дворянство давал отныне только чин майора. А когда Фет дослужился до майора (1859), право на дворянство давал уже только чин полковника…
Новогеоргиевская пустыня

Друг Фета Иван Борисов служил в затопленном сегодня водами Кременчугского водохранилища городе Крылове-Новогеоргиевске. Сюда же отправился и Фет.
«Чем более мы продвигались к югу, тем начало апреля давало себя чувствовать более. Снег становился все тоньше и наконец превратился в блестящую ледяную кору, по которой уносила нас тройка среди необъятной равнины. В воздухе днем было скорее жарко, чем холодно, и дикие голуби, спугнутые нашим колокольчиком с еще обнаженных придорожных ракит, с плеском улетали вперед и снова садились на деревья. Через несколько минут мы их нагоняли, и они летели далее; и так на протяжении многих верст, пока птицы не догадывались, что им покойнее лететь от нас назад, чем вперед. Пустыня и весеннее солнце производили на меня какое-то магическое действие: я стремился в какой-то совершенно неведомый мне мир и возлагал все надежды на Борисова, который не откажет мне в своем руководстве.
В Новогеоргиевске, куда мы прибыли рано утром, нам скоро указали небольшой отдельный домик – квартиру корнета Борисова.
– Это ты, матушка, - воскликнул Борисов, обнимая меня, - тут спозаранку звенишь у крыльца? Добро пожаловать! Отдохни с дороги, а там надо познакомить тебя с нашими орденцами; отличные, братец ты мой, люди!
(…)
У Борисова из двух занимаемых им комнат я поместился в задней, более просторной, и, горя нетерпением превратиться в кирасира, спросил у Ивана Петр., как мне это сделать.
– Обратись, - сказал он, - к полковому закройщику, и он живой рукой превратит тебя в сермяжного рыцаря.
Через час полковой закройщик по фамилии Лехота снял с меня мерку и через два дня обещал одеть меня в рейтузы, подбитые кожей, и даже изготовить белую фуражку с номером первого эскадрона.
(…)
Чтобы не терять времени, мой Вергилий повел меня в конец нашей улицы, выходящей на обширную площадь, часть которой была занята деревянными торговыми лавками, окруженными галереей с навесом.
Небольшой город Крылов получил официально имя Новогеоргиевска со времени поступления в него полкового штаба Военного Ордена полка. Широкая, особенно в весенний разлив, река Тясьмин, впадающая в Днепр и дозволяющая грузить большие барки, давала возможность местным купцам, промышлявшим большею частию убоем скота для саловарен, производить значительный торг салом, костями и шкурами. Зажиточные купцы, большей частью раскольники, держали свои калитки на запоре и ни в какое общение с военными не входили. Грунт улиц был песчаный, но довольно твердый; зато во всем городе не было признака мостовой, как во всех малороссийских городах того времени.
(…)
Жизнь в новороссийском крае в то время была дешева: отборная говядина стоила 3 коп. фунт, курица 10 коп., десяток яиц 5 коп., воловий воз громадных раков 1 1/2 руб. За отдельную небольшую квартиру я платил 3 руб. в месяц. Тем не менее нужно было купить чаю, сахару, кофею, и на простую провизию нужны были деньги, которых сперва было очень мало, а затем окончательно не стало.
Надобно сказать, что река Тясьмин составляла границу нашей Херсонской губернии с Киевской, которая кратко обзывалась Польшею, а слобода, находившаяся на левом берегу Тясьмина, заселенная преимущественно евреями с находящейся тут же синагогой, называлась Польским Крыловым».
Поэт вспоминает о значительных материальных трудностях. Отец высылал ему небольшое содержание – 300 рублей в год, он получал жалованье, но этого катастрофически не хватало на ту жизнь, которую привык вести Фет. Поэт, по его собственному признанию, оказался транжирой. Фет приехал в наши края не просто так, а с рекомендательным письмом к генералу кавалерии, заведующему военными поселениями Дмитрию Ерофеевичу Остен-Сакену, который проявил прямо-таки отеческую заботу, он не только все время приглашал молодого человека погостить у себя, но и согласился по его просьбе получать и хранить его деньги, выдавая только по необходимости.
Отсутствие денег и титула Фет компенсировал талантом и обаянием, в Александрийском уезде он был человеком очень популярным, его охотно приглашали на балы и т. п. На одном из таких балов в честь чьих-то именин он познакомился с Алексеем Бржесским и его женой Александрой. Они близко подружились.
«Настоящий день именин явился для меня многозначительным началом знакомства с молодою парой Бржесских, ближайших соседей предводителя. Когда эта пара перед обедом входила в гостиную, по всем углам зашептали: “Бржесские, Бржесские”. И действительно стоило того. Отставной поручик Ал. Фед. Бржесский с вьющимися по плечам русыми волосами и выхоленными усами мог по справедливости быть назван красивым мужчиной; но темно-русая и голубоглазая жена его, среднего роста, кидалась в глаза своею несравненною красотой.
– Я давно жаждал познакомиться с вами, - сказал мне Бржесский, с которым свел меня Николай Золотницкий, - и если есть вам хотя малейшая возможность, то мы оба с женою (он представил меня жене) просим вас приехать отобедать с нами в нашей Березовке».
«Шепот, робкое дыханье…»

Фет, который в мемуарах называет себя Аф.Аф., очень подробно описывает Бржесских и даже их соседей Дородных:
«Образованный и красивый муж любил хорошо пожить и умел принять гостей с достоинством, причем прелестная брюнетка жена его представляла главный магнит. Муж, вполне в ней уверенный, давал ей полную свободу, не изменяя по отношению к ней искательной любезности, с которою обращался ко всем женщинам. Не поминая никого из поклонников Варвары Андреевны, скажу только, что я никогда не был в нее серьезно влюблен, но при каждом с нею свидании мгновенно подпадал под ее неотразимую власть. (…)
До сей минуты никто никогда не догадывался, что мое стихотворение “Я знаю, гордая, ты любишь самовластье” написано к ней».
А вот другой девушке, дальней родственнице Алексея Бржесского, Фет пишет очень осторожно, называя ее Елена Ларина. Прошло много лет, прежде чем биографы поэта выяснили, что Хелен или Елена Ларина – это сербка Мария Лазич.
«Меньшая Ларина Елена, пользовавшаяся вполне заслуженною симпатией хозяев и задушевными ласками своего зятя Буйницкого, мало участвовала в шумном веселье подруг и, будучи великолепной музыкантшей, предпочитала играть на рояли для танцующих.
Большого роста, стройная брюнетка, она далеко уступала лицом своей сестре, но зато превосходила ее необычайною роскошью черных с сизым отливом волос.
Насколько Надежда Буйницкая была резва и проказлива, настолько Елена Ларина была сдержанна».
«Я ждал женщины, которая поймет меня, и дождался ее», - писал Фет Борисову. Мария оказалась очень музыкально одаренной, да еще и давней поклонницей Фета. Представляете, с каким восторгом поэт, мучающийся комплексом неполноценности, обнаружил, что девушка знает на память его стихи. Фет писал:
«Главным полем сближения послужила нам Жорж Санд с ее очаровательным языком, вдохновенными описаниями природы и совершенно новыми небывалыми отношениями влюбленных.
Изложение личных впечатлений при чтении каждого нового ее романа приводило к взаимной проверке этих ощущений и к нескончаемым их объяснениям. Только после некоторого продолжительного знакомства с m-lle Helene, как я ее называл, я узнал, что она почти с детства любила мои стихотворения. Не подлежало сомнению, что она давно поняла задушевный трепет, с каким я вступал в симпатичную ее атмосферу. Понял и я, что слова и молчание в этом случае равно значительны.
(…)
Ничто не сближает людей так, как искусство, вообще – поэзия в широком смысле слова. Такое задушевное сближение само по себе поэзия. Люди становятся чутки и чувствуют и понимают то, для полного объяснения чего никаких слов недостаточно. Я уже говорил о замечательной музыкальной способности Елены. Мне отрадно было узнать, что во время пребывания в Елизаветграде Лист умел оценить ее виртуозность и поэтическое настроение. Перед отъездом он написал ей в альбом прощальную музыкальную фразу необыкновенной красоты. Сколько раз просил я Елену повторить для меня на рояле эту удивительную фразу. Под влиянием последней я написал стихотворение:
Какие-то носятся звуки
И льнут к моему изголовью.
Полны они томной разлуки,
Дрожат небывалой любовью.
Казалось бы, что ж? Отзвучала
Последняя нежная ласка,
По улице пыль пробежала,
Почтовая скрылась коляска…
И только… Но песня разлуки
Несбыточной дразнит любовью,
И носятся светлые звуки
И льнут к моему изголовью.
(…)
Она не менее меня понимала безысходность нашего положения, но твердо стояла на том, что не желая ни в каком случае выходить замуж, она, насильственно порывая духовное общение, только принесет никому не нужную жертву и превратит свою жизнь в безотрадную пустыню. Не высказав никакого определенного мнения, Бржесский советовал мне съездить в Федоровку, где Елена гостит в настоящее время, и постараться общими силами развязать этот гордиев узел.
Конечно, восторженная наша встреча не привела ни к какой развязке, а только отозвалась на нас еще более тяжкою и безнадежною болью».
Фет не сделал предложения. Просто не мог. Целью его жизни было возвращение себе титула и богатства. Брак с Лазич этому никак не мог способствовать. Фактически Мария находилась в том же положении, что и Фет. Она была блестяще образована, принята в обществе, но ее отец, сербский генерал Козьма Лазич, разорился задолго до знакомства Марии с Фетом. Его дочери годами «гостили» у богатых родственников с тем, чтобы встретить там будущего мужа. Старшей повезло – она встретила Буйницкого, который влюбился в нее. Марии не повезло – она встретила Фета…
Надо отдать Фету должное: он все время пытался разорвать эти бесплодные отношения, но Мария призывала его, умоляла «не прекращать бесед». Он возвращался, чтобы объясниться, но никаких объяснений не получалось. Он слишком сильно любил.
Мария умерла. Ужасно, трагично. Она сгорела заживо, как факел, не повредив окружающую обстановку. Фет писал, что Мария по обыкновению читала и курила папиросы, как Жорж Санд. Бросив на пол спичку, она не заметила, как от спички загорелось платье. Потом в ужасе, объятая огнем, выбежала на балкон, но от ветра загорелись и ее густые длинные волосы. Мария прожила еще три дня.
Бог его знает, почему, но биографы Фета всегда намекают на самоубийство Марии. Фет ничего такого не предполагал. Да и вообще страшно предположить, что молодая девушка выбрала бы такой жуткий способ покончить с собой, да еще и на глазах маленькой сестры.
Фет чувствовал вину всю жизнь. Особенно в зрелости, когда уже получил все, к чему стремился (и богатство, и титул, и даже фамилию Шеншин), и написал книгу «Ранние годы». Воспоминания о Елене Лариной просто отравлены этой виной. Но виной не за жуткую смерть m-lle Helene, а за то, что он отказался от настоящего чувства, которое было в его жизни.
«Нет, я не изменил.
До старости глубокой
Я тот же преданный,
я раб твоей любви,
И старый яд цепей,
отрадный и жестокий,
Еще горит в моей крови.
Хоть память и твердит,
что между нас могила,
Хоть каждый день бреду
томительно к другой, -
Не в силах верить я,
чтоб ты меня забыла,
Когда ты здесь, передо мной.
У любви есть слова,
те слова не умрут.
Нас с тобой ожидает
особенный суд;
Он сумеет нас сразу
в толпе различить,
И мы вместе придем,
нас нельзя разлучить!»
Елисаветград Афанасия Фета
Все это происходило здесь рядом. И даже странно как-то читать в воспоминаниях Фета о маневрах и приезде в Елисаветград государя-императора. Но служба шла своим чередом, несмотря на любовь, несмотря на смерть.
Фет пишет о том, что царский смотр 1847 года немало способствовал развитию города.
«Вы хорошо знакомы, сказал мне начальник штаба, с Александрийскими помещиками, а потому поезжайте туда и помогите нашему театральному предприятию. По поводу царского смотра мы пригласили из Ясс французскую труппу во вновь отстроенный на ярморочной площади театр. Но французы требуют вперед значительного задатка; так предложите вашим знакомым подписаться на места в ложах и креслах по желанию. Абонементные цены за десять представлений мы определили 25 руб. за кресло и 120 руб. за ложи.
(…)
Предчувствие меня не обмануло. Даже милые Бржесские сказали, что в настоящее время до хлебной уборки денег ни у кого нет, а что сами они в сентябре собираются в Крым, и в Елизаветграде быть не рассчитывают. Затем около недели пришлось мне разыгрывать роль Чичикова поневоле.
(…)
Единовременно с Бржесскими появился весь сонм замечательных по своей красоте дам Александрийского узда. Прибыла и прекрасная французская труппа из Ясс и, кроме того, начались представления русской труппы, в которой в трагических ролях выдавался замечательным талантом Полтавцев, а жена его привлекала на сцене своею красивой наружностью.
Чтобы придать эстетическому кругу особый блеск, приехал и гремевший тогда в Европе любимец Жорж Санд Ференц Лист и остановился у полковника Османа. Тут, кажется, по ночам он проигрывал гораздо больше того, что днем выручал за свои концерты.
Трудно описать энтузиазм, который он производил и своею игрою, и своей артистической головой с белокурыми, зачесанными назад волосами.
Вечером на балах собрания съезд бывал громадный.
Кроме обычной офицерской гостиницы у еврейки m-me Симки, пригласившей повара от Лопухина и услаждавшей посетителей, кроме хорошего вина, и прекрасным органом, на той же главной улице открылся и французский ресторан».

Или: «Действительное не всегда вероятно. Справедливость этого изречения еще раз подтвердилась при постройке дворца в Елизаветграде, о которой я уже говорил раньше. На этом громадном сооружении, требовавшем несколько раз новых ассигновок со стороны казны, невзирая на возведение его домашними средствами поселения, сосредоточены были все заботы неутомимого начальника штаба В. О. Фонъ-дер-Лауница. Главным строителем был надворный советник штатский инженер Шохин, и, кроме того, для наблюдения за работами прибыл из Петербурга полковник Мельцеръ.
Светло-русого Шохина, человека средних лет, обязательно появлявшегося при наших официальных представлениях у начальника штаба и у корпусного командира, - я не мог не знать, хотя на квартире у него ни разу не был. А небольшая белокурая с рыжеватым отливом жена его весьма редко появлялась на балах в собрании.
Помнится, здание было возведено в три этажа. И так как материал подавался на постройку со всех концов по лесам, прилаженным в обширные окна, - понятно, что все ревизоры, в том числе и начальник штаба, входили в здание по лесам. Но кто поверит, что однажды при новом осмотре фасада оказалось, что в огромном дворце нет нигде дверей.
Рассказывала мне Сливицкая, хорошо знавшая Шохину, что когда бедный Шохин узнал о своем недосмотре, то, вернувшись домой, схватил себя за голову и стал восклицать: “Дверей нет! Не понимаю! Голова трещит, мозг вытекает!” Никакие усилия жены не могли его отвлечь от этой роковой мысли, и к вечеру он сошел с ума, а через два дня умер».
Другая любовь

В 1853 году Фет перевелся в Новгородскую губернию и стал часто бывать в Петербурге. Его имя постепенно возвращалось на страницы журналов, этому способствовали новые друзья – Николай Некрасов, Александр Дружинин, Василий Боткин, входившие в редакцию «Современника». Особую роль в творчестве поэта сыграл Иван Тургенев, подготовивший и опубликовавший новое издание стихотворений Фета.
В 1859 году Фет получил долгожданный чин майора, однако мечте вернуть дворянство не суждено было сбыться – с 1856 этот титул присуждался только полковникам! Фет вышел в отставку и женился. Сорокалетний, уставший Фет сделал предложение сестре своего близкого друга Марии Петровне Боткиной. Она тоже была уже совсем не молода и к тому же некрасива. Но дело было не только в деньгах. Фет писал, что увидел вдруг «родную душу» – человека, который поймет и примет. Он рассказал Боткиной о Марии Лазич, рассказал о «наследственном недуге», рассказал, что у него «странная» цель – вернуть себе титул. Боткина поняла, пожалела, вышла за Фета и отдала ему свое состояние.
Молодые обвенчались в Париже, в русской церкви. Шафером на свадьбе был Тургенев.
Знаете, что сделал Фет сразу после свадьбы? Купил недостроенный хутор Степановка! В 1860 году! Нет, идиотом он не был, он все понимал, но свое имение было для него слишком важным символом. И не просто купил, он в нем поселился. Светская львица Мария Боткина рванула в Мценскую губернию вместе с ним. Теперь они, конечно, нанимали крестьян на работу. Но только тех, которые могли поддерживать иллюзию Фета. Поэт с мировым именем создал в своем отдельно взятом имении иллюзию крепостного права, а его жена щедро платила крестьянам за этот театр одного зрителя.
Одновременно Фет писал заметки о том, как вести хозяйство! Над этими заметками смеялись все, кроме Льва Николаевича Толстого, который считал, что Фет «прелесть, что делает в своем имении».
В 1873 году Фет вернул себе дворянский титул и фамилию. «Как Фет, Вы имели имя; как Шеншин, Вы имеете только фамилию», – писал ему Тургенев. Шеншину было наплевать. В 1873-м дворянский титул уже не давал ему никаких привилегий, а Степановка не то что не приносила прибыли, а стоила супругам огромных денег.
При этом Фета знали уже не только в России, но и во всем мире. Только самого Фета это вообще не интересовало. Он сразу же заказал себе столовое серебро и фарфор с гербом Шеншиных. И больше никогда (!) не называл себя Фет. Он стал последним из рода обедневших дворян Шеншиных. Его сестра и брат к тому времени умерли, давно не было на свете ни его мамы, которая бросила мужа ради русского дворянина, ни самого Афанасия Неофитовича Шеншина, который был скуп на чувства, но искренне любил своего приемного сына. Афанасий Афанасиевич Шеншин «воскресил» их всех в своем имении Степановка.
Он больше не писал стихов, только публицистические статьи. Но даже их подписывал «Шеншин». «Современник» хотел публиковать статьи Фета, а не никому неизвестного Шеншина, но он не уступал. Аф. Аф. был очень болен, к концу жизни у него резко ухудшилось зрение, и он не мог писать. 21 ноября 1892 года он продиктовал своей секретарше: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». Попытка самоубийства не удалась: поэт скончался раньше от апоплексического удара.
На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.
И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.
А вчера у окна ввечеру
Долго, долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна.
И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.
Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты ее, не буди…
На заре она сладко так спит!
И все-таки он был гений, правда? А еще он автор палиндрома «А роза упала на лапу Азора», который Алексей Толстой потом использовал в «Буратино».















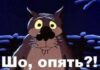





Кохання минуло — залишилися чеки: хто оплачуватиме витрати за скасоване весілля