Момент нашего знакомства невозможно вспомнить. То есть не было ситуации, когда нас друг другу кто-то представил. Однажды на рок-концерте встретились, как давние знакомые, и с тех пор общаемся. Как правило, на тех же рок-концертах. Чем он занимается «в миру», не интересовалась. И вдруг его портреты появились на ситилайтах Кропивницкого. Петр Наточий стал лицом Berrymor Pub.
Встретившись еще раз, разговорились. А следующая встреча уже была в формате интервью. На просьбу рассказать о себе с самого начала, с рождения, Петя очень ровно, складно, хронологично и интересно поведал такое, что вполне может стать сюжетом романа или фильма.
– Я родился в 1963 году 17 января. В этот день убили Патриса Лумумбу. Убийство приписывали диктатору Чомбе, но позже выяснилось, что это дело рук бельгийских королевских спецслужб. У меня такая память, что помню себя в колыбели. На каждый мой день рождения собирались кумовья, родственники и вели беседы. И в мою память врезалась фраза, которая ассоциировалась с моим днем рождения: «Чомбе убил Лумумбу». Она как мантра записалась на подкорку мозга. Когда я вырос, нашел в энциклопедии значение этой фразы.
Мой отец родом из села Хмелевое, а мама – из села Песчанка тогда Полтавской области, а сейчас Кировоградской. Времена были непростые, нестабильные, тяжело было с яслями. Получалось так, что меня, как бандерольку, переводили из одного садика в другой. Я был, как гастролер, меня перемещали по всему городу – туда, где было хотя бы временное свободное место. Наверное, это отразилось на моем характере, моем менталитете. Материально было тяжело. Мама отпрашивалась с работы, чтобы прибежать в ясли и покормить меня грудью, потому что выделяемого питания было недостаточно.
Работала мама в библиотеке Гайдара. У нас всегда было много книг, которые мне читали. В силу своей памяти я услышанное запоминал наизусть. Если мне один раз прочитали «Али-Баба и сорок разбойников», я уже рассказывал это, например, в садике. Меня сажали на стульчик, передо мной рассаживали группу, и воспитатели могли отдыхать. Группа с открытыми ртами слушала мои рассказы. Мне это очень льстило, и я даже позволял себе «прибрехивать», менять сюжетную линию. У меня были свои интерпретации.
Потом мама прочитала мне «Робинзона Крузо», которого я тоже запомнил наизусть. Помню, мы ехали в автобусе к бабушке в Хмелевое, в салоне были студенты, я пересказывал им книгу, а они конспектировали, потому что надо было сдавать экзамен по иностранной литературе. Мне было лет пять. Когда я научился читать, читал очень много. Посадил зрение так, что к десяти годам плохо видел, и меня в школе сажали на первую парту.
Папа работал на АРЗ термистом. Обычный рабочий, но парторг цеха. А еще он пел в хоре. Тогда каждый завод имел свой хоровой коллектив, и они между собой соревновались. Хор АРЗ был такого уровня, что даже завоевал право выступать в Москве на каком-то форуме.
Отец очень красиво пел. И я с детства полюбил украинскую песню. Соловьяненко, Мокренко, Гнатюк… В доме все время звучали украинские песни и тоже каким-то образом формировали мое мировоззрение. Мама – библиотекарь, папа – заводской рабочий, но в семье царило очень интеллигентное пространство. К нам тянулись известные люди, в гостях бывали артисты. Моим крестным был Юрий Давыдович Моторный, который работал в «Молодом коммунаре», возглавлял «Кировоградскую правду», потом – в Киеве, в «Сельских вестях».
Школа у меня была одна – тридцать вторая. Там я больше всего полюбил английский язык, другие предметы интересовали в меньшей степени. А школа была специализированной с преподаванием ряда предметов на иностранных языках. То есть у нас преподавали отдельно английский язык, отдельно литературу, отдельно внеклассное чтение. А в девятом классе начальная военная подготовка тоже на английском языке. Мы учили допрос военнопленного, вооружение иностранных армий, что мне потом очень помогло при поступлении в университет.
Кстати, НВП у нас преподавал Георгий Иванович Никитин. В прошлом – военный переводчик в десантных войсках. Это был профессионал, классный мужик. Он заметил во мне способности к иностранным языкам и говорил, чтоб я развивался в этом направлении – это возможность увидеть мир.
У меня была попытка после школы поступить в институт иностранных языков в Горловке, но не хватило баллов, поэтому – армия. Я был призван в Гостомель, войска связи. Нас обучали азбуке Морзе, мы изучали различные радиостанции. В общем, делали из нас телеграфистов. А когда мы начали изучать десантную радиостанцию, я понял, что нас готовят к какому-то заданию. Потом нам стали говорить, что готовят нас для службы в странах Запада. Мы думали, что это может быть ГДР, Венгрия, Чехословакия, Польша. Но начались расширенные медицинские комиссии, где нас очень скрупулезно проверяли. И когда я увидел заключение «годен для прохождения службы в странах с сухим жарким климатом», начал что-то подозревать.
Я знал, что наше правительство лживое. Если большинство детей мечтали о велосипеде, то я мечтал о коротковолновом радиоприемнике. Класса с пятого я начал формироваться как диссидент. Слушал «Голос Америки», «Радио Свобода», BBC, «Свободная Европа», Deutsche Welle. Эти радиостанции были для меня глотком свободы, глотком протеста. Отсюда и желание продолжать учить иностранный язык. И это на фоне того, что отец коммунист, мать тоже была членом партии, но у нее в поезде украли сумочку с паспортом и партбилетом, за что ее выгнали из партии. Поскольку мои родители были честными и порядочными людьми, они открывали мне глаза на некоторые вещи: да, мы идем к победе коммунистического труда, да, мы самая миролюбивая страна в мире, но при этом есть отдельные недостатки. И «вражеские» радиостанции помогали мне не верить в то, что в нас вливали из телевизора и центральных газет.
Соответственно, у меня были друзья, с которыми мы мыслили одинаково. К десятому классу мы были законченными диссидентами. Я не вступал в комсомол до самого окончания школы. Я уже получил аттестат, когда наша старшая пионервожатая сказала мне, что куда-то поступить, не будучи комсомольцем, шансов нет. А я очень хотел поступить, поэтому как бык на заклание пошел в райком комсомола «сдавать устав ВЛКСМ».
Но об армии. Год я отслужил в Советском Союзе. А потом нас якобы завербовали в Афганистан. На самом деле никакой вербовки не было, просто сказали: «Мы вас оформляем наемниками, вы едете туда как гражданские лица, государственная военная тайна, никому ни слова». И стали готовить нас к тому, что сейчас называется «гибридная война». Отобрали военные билеты, комсомольские, профсоюзные, солдатские книжки. Выдали загранпаспорта для перелета из Шереметьево в Кабул. А по прибытии в Кабул и паспорта забрали. Единственное, что у меня сохранилось, – талон физкультурника. Согласно этой справке, я отправлялся в Афганистан на Спартакиаду народов мира сроком… на один год. Как я сохранил эту справку – отдельная история.
В общем, после года службы нас отправили в Белую Церковь, в так называемую пятую танковую площадку, переодели во все гражданское, выдали какие-то подорожные деньги и отправили в Москву. Мы ехали на поезде, в том числе и по Москве, а потом открылись ржавые ворота, поезд заехал, ворота закрылись. Оказалось, что для пущей секретности нас разместили в женской пересыльной тюрьме на Красной Пресне. То есть секретность была такая, что нас боялись размещать в военных подразделениях. Нас было 143 человека. Понимая, что уровень секретности зашкаливает, я цеплялся за каждую мелочь и все запоминал. Помню, что тюрьма находилась по адресу: Силикатный проезд, 12.
Нас охраняли женщины, похожие на удмурток, в черных шинелях, черных пилотках, с карабинами. В тюрьме мы находились дней десять-пятнадцать. Барак, трехъярусные нары. Нас кормили – на машине привозили термосы с едой. Но иногда забывали привезти завтрак или ужин. Возможно, это была проверка, чтобы посмотреть, не начнется ли бунт, паника, насколько стойко мы можем переносить тяготы и невзгоды военной службы.
В последние три дня нам неожиданно разрешили выйти в город. А на нас костюмы, белые рубашки, туфельки, шляпы. Дали по десять рублей, и мы пошли гулять. Три человека по пьянке попали в милицию и к нам уже не вернулись. Нас осталось 140, до Афганистана долетело на три человека меньше.
В Шереметьево мы прошли паспортный контроль, сели в самолет. Было приземление в Ташкенте, час в терминале и – на Кабул. У нас еще были маленькие неказистые чемоданчики со сменным бельем. На градуснике в Кабуле было 50. А взлетная полоса аэропорта покрыта металлическими листами. Не знаю, с какой целью это было сделано, но на солнце металл становился жаровней. Когда мы шли в сторону аэропорта, пятки уже прожигало, и мы бежали на носочках. Это был первый шок. Первый, потому что мы не знали, что нас ждет дальше.
Как я уже говорил, нам выдали талоны физкультурников, вложенные в загранпаспорта. В кабульском аэропорту у нас стали все это отбирать. А у меня сработал инстинкт самосохранения. Я понимал, что ситуация ненормальная, и свой талон запрятал очень далеко. Когда у меня спросили, где документ, я стал врать, что стюардесса принесла напитки, талон лежал, она пролила, намочила, я вытирал и вместе с салфетками выбросил. Меня спросили, есть ли свидетели. Естественно, я позаботился о том, чтоб они были.
Десятое управление Министерства обороны СССР ГРУ – вот кто занимался нашей «афганской кампанией». Оказалось, что нашу команду готовили для охраны военных советников. Они тоже в Афганистан приезжали как гражданские лица. Более того, они приезжали с женами, даже бабушками. Или это у них жены так выглядели – не знаю. В Кабуле был советский микрорайон, пятиэтажки, где они жили. Поскольку был режим повышенной секретности, бытовые проблемы решались неформально. Если тебя ранили, в госпиталь не попадешь, потому что ты никто. И договаривались частным образом.
Мы были там для охраны советников, сопровождения грузов и других подобных задач. Одеты «по гражданке», но с оружием. При этом мы получали довольно высокую зарплату: я, рядовой солдат, получал больше, чем лейтенант в войсках в Афгане. Как в любом секретном деле, все всё знают. И наши солдаты знали, что есть такие «теневые» войска. Отсюда и неприязнь к таким, как я. И приходилось всегда врать. Ложь была и тотальная, и местная, и ситуативная.
Нас разделили на несколько групп. У кого были «залеты», тех отправляли в «плохие места». Поскольку я уже потерял талон физкультурника, был «залетчиком», и меня ждало такое место. Нам сказали, что нормальные пацаны остаются, будут телеграфистами, а нас, двенадцать человек, отправят туда, где расстреляли точку. А точка – это как раз двенадцать человек: телеграфист, три бэтээрщика, четыре пулеметчика, главный точки и повар. Услышав слово «повар», я сказал, что буду им. Все согласились. А я ж никакой не повар! Ничего не умею готовить, кроме яичницы.
К счастью, нам разрешили переписку с родными. Но наш обратный адрес был – Москва. Очень быстро я получил от мамы толстенное письмо, в котором подробно были написаны рецепты борща, каш, картошки. Она расписала, как надо нарезать, шинковать, замешивать тесто. Вскоре я готовил вкусные блюда: варил борщи и супы, тушил картошку, с мясом разбирался, даже пельмени лепил.
Я радовался, что мне не приходится по ночам с автоматом в ростовых окопах охранять территорию. В Афганистане была постоянная стрельба. Это как у нас птичий гомон. Если в зимнее время все боевые действия прекращались, потому что в горах холодно, выпадает снег, затрудняются маневры, то с наступлением весны военные действия активизируются. То есть война носила сезонный характер. Наша точка находилась высоко в горах, в двадцати километрах от Кабула. Это было небольшое плато с окопами, капонирами. С одной стороны – афганская пехотная дивизия, в которой советники из Союза были в качестве преподавателей. С другой – озеро с электростанцией, которую надо было охранять. Вокруг – горы, откуда по нам стреляли – хаотично или целенаправленно.
Все постройки в Афганистане из глинобитного кирпича. А крыши – плоские, ровные. Когда снег, выпавший на крышу, тает, вода протекает внутрь помещения и льется с потолка. В моей кухне от печки было тепло, поэтому снег на крыше быстро таял, и надо было лезть на крышу, чтобы почистить снег. Полез я на крышу, и в это время меня подстрелили. Я был ранен в голову, потерял сознание и довольно долго лежал на крыше. Внизу никто не знал, что меня подстрелили. Когда я очухался, сполз с крыши, упал на крыльцо, и только тогда меня нашли.
Повезли меня в госпиталь. Но выяснилось, что нигде меня не могут пристроить, так как у меня нет документов. В конце концов за городом нашли модульный быстромонтируемый госпиталь из каких-то картонных домиков. Из-за того, что там был беспорядок, меня положили лечиться. У меня была контузия и, к счастью, легкое ранение. Меня быстро поставили на ноги, но возник очередной казус.
Прапорщик, который поместил меня в госпиталь, был отправлен в Союз за какой-то «залет». А только он знал, где я нахожусь. То есть забрать меня некому. Меня пора выписывать, меня спрашивают, где моя воинская часть, а я не имею права говорить. Я называю не существующий адрес в Кабуле, говорю об узле связи. Врачи думают, что из-за контузии у меня с головой не все в порядке, и главврач меня просто вытолкал за ворота.
Я осмотрелся, спрашиваю людей, едет ли кто-то в Кабул. Да, вертолет летит. Я сел в него. У него дверей не было. Взлетаем, ветром все продувается, я держусь за сиденье. Приземлились, и я куда-то пошел. Не ориентируюсь абсолютно, без документов, не знаю, что делать. Да, когда я только попал в Афганистан, начал учить один из местных языков – фарси. Знал какие-то фразы, и это мне помогло пообщаться с таксистом, которого я встретил. Рассказал ему об узле связи, он понял и повез меня туда, куда мне было надо. Деньги у меня были.
В общем, я добрался до своих. Дослужил нормально, без эксцессов. Правда, переслужил: в Афганистане я пробыл год и месяц. И это был ад, другого слова подобрать не могу. Обратно мы летели на Ту-154, но могли не долететь, потому что в самолете поломался двигатель. это было над Актюбинском, мы сделали вынужденную посадку, но из самолета нас не выпустили. Вот там у многих солдат началась паника: на войне остался живой, а тут такое. Мы слышали удары молотка по двигателю – так его ремонтировали. Ребята просились выйти, говорили, что дальше на поезде поедут. На что им отвечали: «Куда вы денетесь? Вы ж на подводной лодке».
Самолет приземлился в Шереметьево. Когда мы вылетали из Кабула, температура воздуха там была 53 градуса. В Москве 24 июня поздно ночью было три градуса мороза. А мы в футболочках, замерзли. Из аэропорта нас повезли в ту же женскую тюрьму, в тот же барак. Снова мы находились на тюремном содержании, снова нас охраняли удмуртки, и мы им под гитару пели песни: «В Афганистане я служу, Под небом солнечным хожу, Гляжу на горные хребты, Как далеко за ними ты». Мы сами придумывали песни, сами их исполняли. А потом образовалась группа «Каскад», которая ездила по Союзу и выступала с песнями про Афган. Некоторые песни из их репертуара – наши.
Нам выдали военные билеты. В них, в моем, в частности, записано, что я прибыл в Москву и выбыл из Москвы. В какой части служил, не указано. Об Афганистане никаких пометок нет. Я уже тогда начал узнавать, как мне доказать свой афганский период, ведь я хотел поступать, а нам обещали льготы при поступлении в вуз. Мне сказали, что достаточно будет комсомольской и служебной характеристик, где будет указано, что я проходил службу в Афганистане. Мы с ребятами сами написали характеристики и в военной комендатуре попросили поставить печати. Это были единственные документы с печатью, доказывающие мою службу, и еще спрятанный талон физкультурника, но без печати. И фотопленка, которую мы вывезли тоже тайком.
Приехав домой, я пошел в военкомат, чтобы встать на учет. Там все были в шоке, они ничего не знали о службе, которую я проходил. Сначала ко мне отнеслись, как к байкарю, брехуну. Я им рассказываю, как все было, а они не верят, что наш солдат может без формы и без документов служить. Я говорю, чтоб они отправили запрос в десятое управление. Отправили.
Вступительная кампания в разгаре, я со своими характеристиками еду в Киев, в университет Тараса Шевченко, нахожу факультет переводчиков. Там снова ставят под сомнение мою службу в Афганистане, потому что в военном билете ничего не записано, а характеристики на них не возымели действия. Хорошо, что тогда часто летали самолеты из Киева в Кировоград. Я мотался туда и обратно, в военкомате мне дали нужное подтверждение, и я поступил вне конкурса. Правда, вместо английского языка, куда был большой конкурс, выбрал французский. Поначалу, первые полгода я не справлялся, был отстающим студентом, еле сдал первую сессию. А к третьему курсу я был одним из лучших.
Пять лет отучился, получил диплом переводчика французского языка. Я учил и второй язык – арабский. Это было не обязательно, но я подумал: а почему бы нет? Предполагалось, что по окончании университета нас будут отправлять в такие страны, как Алжир, Тунис, Марокко, Мадагаскар, Гвинея. Диплом я получил в 88-м году. И нужно было самостоятельно найти себе работу, распределения не было. А параллельно министерство обороны ставит тебя в очередь и потом отправляет работать за границу. Я вернулся домой, пошел в КИСМ, где была кафедра иностранных языков, предложил свои услуги, и меня взяли на работу. Попутно через военкомат оформлялся по линии государственных социокультурных связей с заграницей. У меня уже была семья – жена и сын, и мы оформлялись все вместе. Этот процесс курировала Москва. К моменту, когда я должен
был получить распределение в Тунис, распался Советский Союз. Мне предлагали варианты прописаться в России, но я остался гражданином Украины.
Начались лихие девяностые, я пошел в частный бизнес. Мы с женой открыли бюро переводов. Она – английский и немецкий, я – французский и арабский. У нас была маленькая фирмочка, своя печать, мы зарабатывали деньги, платили налоги. А потом жизнь побросала с фирмы на фирму. И по сей день.
Что касается Афганистана, то моя неопределенность длилась лет пять. А потом, в связи с уходом поколения ветеранов Второй мировой войны, на афганцев стали обращать особое внимание, предоставлять им льготы. Я этим активно интересовался, и было такое, что мне сказали, будто я свою льготу использовал, поступив в университет. То есть пытались отфутболить. А потом нас стали замечать, выделять средства на памятники. Со временем афганское движение стало активным.
Я никогда не рассказывал, что мы, служившие в Афганистане, совершили подвиг, что мы были героями. Я всегда говорил, что это была несправедливая война, что нам нечем гордиться, что мы много беды принесли афганскому народу, что это никогда не забудется. За десять лет войны в Афганистане, по официальным данным, погибло 16 тысяч наших соотечественников. Но в любой войне вранье соотносится с правдой в пропорции один к трем. Поэтому число погибших может составлять 50 тысяч. За этот же период афганских граждан погибло полтора миллиона. Это кричащие цифры…
Мы с побратимами встречаемся каждый год 15 февраля – в день вывода войск из Афганистана. Проходим колонной, возлагаем цветы к памятнику воинам-интернационалистам, заказываем панихиду, говорим речи. В позапрошлом году я был председателем городского комитета Украинского союза воинов-афганцев. На торжественной встрече в театре я озвучил ужасные цифры погибших, сказал, что это была не война, а бойня. Многие ветераны со мной не согласились, они были недовольны, говорили, что мы не должны каяться, ведь не по собственному желанию туда ехали, и на самом деле мы герои. Я так не считаю.
А сегодня я Бэрримор. Как это случилось? Я познакомился с Михаилом Антоньевым, когда он заканчивал ремонт в своем кафе. И во мне он увидел будущий образ заведения и предложил работу официанта. Я сначала сомневался, в этом амплуа себя не видел, но согласился. Я еще и директор ортезно-протезного цеха, который находится в Киеве. «Бэрримор» мне пришелся по душе, нравится мне там работать. Устаю, правда, но чувствую себя в этом образе органично. А еще я посещаю театральную студию Романа Бутовского. Мечтаю сыграть в его театре. Почему бы нет?



















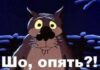





Кохання минуло — залишилися чеки: хто оплачуватиме витрати за скасоване весілля