В начале мая на своей страничке в «Фейсбуке» Людмила Ивановна Кривенко опубликовала несколько частей «воспоминаний мальчишки, пережившего военные годы». Это были записанные ею воспоминания ее супруга Виталия Ефремовича, недавно покинувшего этот мир. Вот как талантливо он умел проектировать, рисовать, говорить, убеждать, так же талантливо он вспоминал. А Людмила Ивановна все это сохранила для нас. С ее разрешения мы публикуем текст полностью.
Первые солнечные лучи проникли в комнату, робко коснулись моих глаз. Пора вставать. Совсем как в то далекое детство…
«Онучок, вставай, вставай, дитинко!» – так ласковыми, но настойчивыми словами бабушки Сани начиналось обычно мое утро летом. А это было лето 1944 года. Стакан молока, кусок хлеба – и я, семилетний пацан, бреду к калитке. От утренней прохлады спасает фуфайка, надетая на голое тело. Из одежды одни трусы до колен. Ну, еще как защита на случай дождя – мешок. А у калитки ждут наши козы-кормилицы Нана и Зорька, уже готовые двинуться в путь. Постепенно подтягивается с разных улиц со своими козами и коровами босоногая гвардия таких же сонных друзей-товарищей. И весь наш некрасовский трудовой десант от мала до велика двигается в сторону аэродрома. Именно там, на поле перед взлетной полосой, все и размещались. У кого-то были козы, у некоторых – коровы, кто-то пас своих, а кто-то соседских, чтобы заработать копейку для семьи: жили все бедно.
Долгий летний день начался. Устраивались на своих фуфайках, и начинались мальчишечьи беседы обо всем. Их разнообразили бега наперегонки, турниры – бои на палках. Не обходилось и без драк. Старшие подначивали нас, младших. А мы петушились, лезли в драку, отстаивая свою независимость. Именно там начинал закаляться характер послевоенных пацанов. Частенько наши козы забредали на взлетную полосу. Тут уж надо было убегать от аэродромовской охраны . «Нана! Зорька! За мной!», и бегом от опасности. Козы – они ведь как собаки, все понимают и несутся вслед за хозяином. Мои были выдрессированы отлично, так что очень быстро обгоняли и меня. Ну а пополудни домой: коз надо было подоить, а потом снова в поле и уже дотемна.
Так жили почти все, работая, помогая взрослым в меру своих сил. А дело находилось всегда. Поспевали, например, вишни. А они на Некрасовке были знатные! Опять же, дело для пацанов: собрать ежедневно пару ведер, а бабушка утром сбегает на базарчик, продаст. Так он и тянулся, долгий летний день, а вечером поскорее бы пробраться домой и главное – увильнуть от бабушки, чтобы не заставила мыться. И сквозь сон уже только слышу: «Вот, Маруся, він вже спить. Ну спи, дитино».
Бабушка Саня
Именно с ней связано большинство моих детских воспоминаний. Мама была с утра и до вечера на работе, а по ночам еще и шила на заказ. А на бабушке был дом – она занималась всеми хозяйственными вопросами, воспитывала, как могла, непоседливого внука. В общем, бабушка в моем далеком детстве была всегда рядом.
Родом Александра Яковлевна Христенко была из Аджамки. Это старинное военное поселение в Кировоградском районе, которое называли «казенное село». Здесь до сих пор принято говорить, что живу в такой-то, например, во второй, сотне, а не на улице. Моя бабушка Саня вспоминала, как еще ее бабушку, симпатичную шуструю девушку, увидел солдат, который шел после демобилизации через их село. Увидел, посватал, так и стала пятнадцатилетняя девушка женой сорокалетнего мужчины. Он был человеком трудолюбивым и предприимчивым. А демобилизованным давали приличный надел земли, определяли хорошую пенсию. Хозяйство крепло, семья стала зажиточной. После смерти хозяина всем успешно стала заправлять молодая вдова, поднимавшая своих многочисленных детей уже самостоятельно. Она очень любила самую шуструю из своих внучек – Сашеньку.
Шли годы, моя бабушка, девушка в те далекие времена, вышла замуж за кузнеца Филиппа Гамаюна, которого вскоре забрали в армию. Он дослужился до прапорщика, а после срочной службы остался в армии и уже с семейством кочевал по местам службы. Первая мировая война все смешала. Дед воевал, за смелость и доблесть стал Георгиевским кавалером, но война жестока – он погиб. И молодой вдове в церкви вручили дедов Георгиевский крест, определили приличную по тем временам пенсию. Она вернулась в Аджамку, где уже самостоятельно и хозяйствовала, поднимала детей.
Как-то она рассказывала, что деньги экономила, и однажды местный купец, одолжив у нее приличную сумму, потом рассчитался золотыми червонцами. Она долго их прятала в бочке с мукой. А потом и вовсе обменяла непривычные золотые монетки на бумажные деньги, вскоре превратившиеся в те смутные времена действительно в бумажки. Бабушка со смехом потом об этом своем коммерческом ходе вспоминала.
Революция, годы разрухи, голод, бедность. Сначала старшая дочь с мужем уехала в Кировоград, а потом и моя мама заявила, что поедет работать в город. Бабушка вслед за детьми уехала из Аджамки в город. Так уж получилось по судьбе, что жила она все последующие годы с моей мамой, была ей верной и надежной помощницей: помогала выжить в годы войны и послевоенные годы. А это было ой как непросто двум женщинам! Выручали умелые руки, природная смекалка и предприимчивость. Как я уже говорил, мама шила, перешивала, перелицовывала. В основном это было старое обмундирование. А уж бабушка «загружалась» всем этим и отправлялась пешком по ближним селам – в Аджамку, Веселовку, Гаивку, где меняла одежду на продукты.
В те времена была одна задача – прокормиться и выжить. Я не помню, чтобы нас, детей, кто-то, как это принято сейчас говорить, приучал к труду. Просто все тогда работали. У нас был еще и огород за городом. Сажали, пололи, убирали мы его в основном вдвоем с бабушкой. А потом надо было все это перетащить к дороге, где бабушка ловила попутку. Тогда, к слову сказать, водители по пути всех подбирали за небольшое вознаграждение. А часто и просто так. Не могу сказать, что эта трудотерапия доставляла мне особое удовольствие. Эти рядки без конца и края повергали пацана в уныние, но бабушкину присказку «А ты, внучок, сапай, и конец будет!» я запомнил на всю жизнь. Уже в зрелые годы вот точно так же, по бабушкиному принципу, когда что-то не хотелось начинать делать, все-таки начинал и «сапал». И действительно в конце концов завершал начатое.
Мой отец погиб на фронте в 1944 году, и бабушка считала, что именно она – моя защитница во всех трудных делах. Ну а я был явно не подарок судьбы: спокойным нравом не отличался и в школе доставлял своему первому учителю Марку Авксентьевичу немало забот. Поэтому вызовы мамы в школу были для меня постоянными. Но когда я отвечал, что мама на работе, а придет бабушка, то Марк Авксентьевич предпочитал не связываться с моей боевой бабушкой. Она снимала фартук и шла героически защищать внука. Аргумент у нее был веский: «Его батько на фронте погиб, а ты в тылу отсиживался».
Послевоенные бедные годы, не до излишеств. Припоминаю, как мы вместе с бабушкой ремонтировали старый, а скорее древний, велосипед. Некоторым ребятам, особенно тем, у кого отцы были живы, покупали новые велики, а мы не могли себе такого позволить, и я это понимал. Но однажды бабушка объявила, что едет в Днепропетровскую область продавать картошку. Компанию в этой коммерческой поездке ей составил брат Мирон. Там они успешно все продали, заработали немного денег. И, вернувшись, бабушка сообщила мне торжественно, что мы идем покупать мне новый велосипед. Вот это было настоящее счастье, когда у меня появился новый, блестящий красавец Харьковского велосипедного завода! Бабушка Саня была счастлива не меньше меня.
Так уж было, что все мои благие начинания, творческие порывы всегда поддерживались прежде всего бабушкой – простой малограмотной крестьянкой. Она многого не знала, но улавливала своим сердцем и душой. Я с детства любил рисовать, и, где-то прочитав о том, что картины написаны на полотне, решил создать свой первый шедевр. Ну кто поможет? Конечно, бабушка. Она выделила кусок простыни, мы совместно ее натянули на рамку, гвоздиками прибили, купили мне акварельные краски. Ясно, что шедевр не получился – акварель на простыне просто потекла. Но бабушка первая и успокоила: «Ничего, онучок, научишься со временем». И эти ее слова тоже стали пророческими.
Война
Мне было 4 года, когда началась война, но детские воспоминания живы и часто встают перед глазами. В первые дни войны отец ушел на фронт, а мама с бабушкой решили, что надо уехать из города в село, чтобы пережить эти времена. Там наше семейство и встретилось с немцами, с настоящей войной. Я с мальчишками пошел в поле ловить сусликов. Старшие ребята заливали их норы водой, а младшие должны были стоять у всех ходов-выходов и ловить мокрых «ховрашков». В поле и застали нас первые бомбы. Со страшным гулом летели самолеты, а потом вокруг начали падать и взрываться бомбы. Я лег в колею на дороге, спрятал лицо в горячую дорожную пыль и весь сжался от страха. Но до сих пор в памяти это чувство ужаса. А потом по степи, по полям, по дорогам (было такое ощущение, что повсюду) ехали горластые фашисты. Они по-царски восседали на танках, машинах, шумели, играли в карты. Кстати, видел я и совсем другую картину, но уже зимой 1944 года. Тогда замерзшие, одетые во что попало, обутые поверх сапог в чуни, измученные и грязные, они драпали уже в обратном направлении…
Но это было потом, а тогда впереди были долгие страшные годы немецкой оккупации. Мы вернулись в родной город и начали выживать, как все. Маме тогда было чуть за 30, она была видная молодая женщина. Но бабушка для маскировки нарядила ее во всякое тряпье. И частенько для немцев выдвигалась версия, что она вообще после тифа. Хата у нас была старенькая, но все равно чаще всего немцы нас выселяли из комнаты, и мы жили в кухне либо вообще в сарайчике.
Перед домом была вырыта довольно глубокая яма. В мирное время здесь брали глину для хозяйственных нужд, а во время войны ее переоборудовали под окопчик. Здесь мы и прятались во время бомбежек. Немцы тоже были разные. Некоторые что-то давали съестное нам, детям, а то и без причины награждали подзатыльником.
Однажды я на дне нашей ямы-окопчика увидел сухарь – по тем временам такое богатство. Немедленно полез туда. Успешно съел, но только хотел вылезать, вдруг сверху на меня снова летит сухарь, и я полез обратно. Так повторялось несколько раз. Последние сухари я прятал за пазуху, но силы пятилетнего пацана иссякли, и я просто не мог выбраться из той ямы. И тогда надо мной раздался хохот немцев. Оказывается, это так они «шутили». Я заревел, меня вытащили из ямы и с хохотом отпустили.
Немцы и во время войны жили по своим нравам и порядкам. К нам на улицу регулярно приезжала бочка с кофе, и все они шли дружно пить кофе, подставляя кружки. Ну а мы, дети, взяв баночки и коробочки, тоже приближались к заветной бочке. Именно там я впервые попробовал кофе, и с тех пор я его не люблю. Кто знает, почему?
Еду надо было добывать каждый день. Мама шила денно и нощно. У меня до сих пор перед глазами образ мамы, склонившейся над машинкой, а рядом коптит керосиновая лампа. А задача бабушки была продать, обменять, в общем, раздобыть что-то съестное. Это удавалось, увы, далеко не всегда. И опять перед глазами картинка: я сижу на подоконнике, рядом мама что-то шьет. А я так хочу есть, что, не выдержав, плачу голодными слезами. Меня не ругают, не кричат на меня, а успокаивают: «Потерпи, вот сейчас бабушка что-то поменяет и принесет». Однажды бабушка раздобыла, выменяла где-то немного кукурузной муки, и на какой-то период стало уже легче. Сначала было вкусно, но когда много дней ешь одно и то же… С тех пор я терпеть не могу вкус кукурузы.
Все голодали. Как-то, еще во время войны, моя крестная баба Фрося принесла мне диковинный подарок – какую-то маленькую длинную штучку-трубочку, завернутую в яркую бумажку. Уж где она ее раздобыла, кто знает! Я с недоумением взял подарок и спрашиваю: а что с этим делать? В ответ мама и крестная заплакали: ребенок в пять лет не знал, что такое конфета…
В январе 1944 года Кировоград освободили. А ранней весной в наш дом пришло горе: почтальон принесла похоронку на отца – он погиб при освобождении одного из сел нашей же области. Мама в 33 года осталась вдовой. Осенью этого года все дети пошли в школу. Мне-то как раз исполнилось семь лет, а со мной рядом за партой сидели ребята и постарше, ведь все три года оккупации школ не было. Меня, как могли, собрали в школу. Мама пошила одежду, сумку, купили мне и первые в жизни ботинки. До сих пор помню, как я их ненавидел, эти «колодки», ведь после стольких месяцев, лет босоногой жизни мы вынуждены были впервые обуться. Неудивительно, что вся наша компания, только выйдя за порог школы, снова разувалась и топала босиком.
Наступила моя первая школьная зима. В классе был жуткий холод. Каждый должен был принести в школу полено, дежурный растапливал буржуйку, но дуло изо всех щелей, поэтому ни о какой учебе не думалось. Малышня сидела и просто плакала от холода, да и от голода тоже. Но пережили и эту зиму, а на следующую застеклили окна, топили печи, стало полегче. Но все равно частенько в морозы чернила замерзали в чернильницах. Их, кстати, все носили с собой в специально сшитых торбочках. Ну а во время мальчишеских потасовок, драк, это было грозное оружие – мешочек с чернильницей. Поэтому возвращался я из школы частенько с чернильными подтеками. Бабушка, естественно, ругала, хотя самое страшное ее ругательство было: «От бісова дитина!»
Одной из проблем в те годы была бумага, писать было катастрофически не на чем. Тетрадки продавали, выменивали на базаре. Часто сделаны они были из обоев, старых бумаг и прочего. Мама шила, например, пальто, и за это с ней рассчитывались тетрадкой. А потом были трудные послевоенные годы, но воспоминания о войне вряд ли сотрутся из моей памяти.
Родная улица моя
Мое детство, отрочество, юность неразрывно связаны с улицей Пирогова, моей родной улицей. Микрорайон Некрасовка начали застраивать в 30-х годах прошлого века. Рядом была Николаевка с более старой, еще дореволюционной застройкой, где дома с участками давали (с последующим выкупом) рабочим завода Эльворти. Застройка на Николаевке была побогаче. А на нашей улице были в основном маленькие мазанки.
Улицу отличал особый колорит: такое себе мини-село на окраине города. Вся жизнь населения протекала, особенно летом, на улице. Большинство бытовых вопросов тоже решалось рядом с домом, на местном уровне. Если кто-то задумывал что-то достроить, пристроить, созывали соседей на толоку. Глина, солома, кизяк, руки, ноги, ну еще, может, лошадка – и пошла работа! Надо печку, грубку сложить, тут уж все шли к дяде Вите Шахову, отменному печнику и каменщику. Напротив нас жил свой уличный бондарь – один из братьев Семеновых. Бочки, бочоночки у всех в округе были только его производства. Рядом – Андрей Шахов, столяр, а его жена тетя Люба шила – стегала одеяла. Соседи Шевцовы держали коров, у них все брали молоко. Так моя бабушка утречком несла к ним свой пустой глечик, а взамен прямо в погребе брала у них уже полный с парным молоком. Расчет – в конце месяца. Так было принято. Ну а если кто-то пек хлеб, то делили на соседей.
Моя мама всех обшивала, она была признанная портниха, а сосед Ткаченко – сапожник. Был на улице и свой водовоз: у соседа Захарченко была лошадь с бочкой. До войны это было, кстати, очень популярно – развозить воду. На улице было два колодца, но ведрами не натаскаешься для всех хозяйственных потреб. Вот и везет дядько Захарченко водичку. Веселый, шумный был человек. Работали все много. Хотя до войны на улице деньги зарабатывали в основном мужчины, они были добытчиками, а женщины (большинство) занимались домом, хозяйством, детьми. Так было заведено. После войны ситуация изменилась: много мужчин не вернулись с фронта, и женщины вынуждены были взвалить на себя бремя обеспечения семейств.
Наша улица была широкая, красивая, заросшая спорышом, утопающая в садах. Это был настоящий рай для детских игр и забав. Никаких машин и опасностей.
У меня запечатлелись в памяти летние вечера, когда на улице взрослые компании собирались после работы или в выходной посидеть, поговорить, песни попеть. Все всё про всех знали, тут уж не утаишь ничего, да и таить-то особенно было нечего. А в выходные, особенно на праздники, – общие застолья, когда сносили у кого что есть. Главное – песни и танцы от всей души.
Вскоре после войны на нашей улице появился свет – настоящее чудо по тем временам. А потом и радио. Репродуктора у нас сначала дома не было (денег всегда не хватало), но мне давали наушник, и я, замерев от счастья, часами просто слушал радио. Слушал все подряд: и новости, и симфоническую музыку, и спектакли. Потом мама купила репродуктор. Он был примитивным, но мне казался образцом технического совершенства. Это уже потом появились первые приемники, радиолы. А сразу после войны героем всех гулянок был, конечно, патефон.
Летом наша улица наполнялась запахом вишневого варенья. Во дворах ставили кирпичики: сооружали импровизированную печечку. Обмазывали тазы глиной и все варили варенье. Рядом с нашей улицей был сквер имени Павлика Морозова (он существовал еще с довоенных лет). Сразу после войны здесь было своеобразное кладбище военной техники: танки, бронетранспортеры. Вот уж где мы полазили, ведь там можно было найти все, что мальчишеской душе угодно. А ближе к железной дороге – полоса (здесь сейчас лесопосадка), там лежали прямо в ящиках снаряды, мины всех мастей и калибров. Многие пацаны пострадали, разбирая это «богатство».
Бабушка неоднократно реквизировала у меня всякие военные принадлежности, в том числе и пистолет, который я по случаю где-то выменял. Я его спрятал на чердаке, но так хотелось почаще полюбоваться, подержать в руках свой скарб, вот я и наведывался при каждом удобном случае в заветное место, что, естественно, усекла моя бдительная бабушка. Пистолет был безжалостно реквизирован и выброшен: надежно «притоплен», как она выразилась, в уборной. Но как-то быстро после войны за пару лет все эти остатки войны вывезли. А в сквере вновь посадили деревья и сделали там летнюю киноплощадку. Денег у нас на кино, естественно, не было, но это не мешало нам смотреть все подряд, сидя на заборе.
Некрасовка была окраиной города, а примерно в районе нынешнего Студенческого проспекта уже начиналась кукуруза и дальше – бесконечные заросли «чагарника». Транспорт к нам до войны не ходил никакой, да и сразу после войны тоже. Все ходили пешком. Те, кто работал на заводе «Красная звезда», двигались вдоль железной дороги. Так и шла на смену и со смены (а их было три) вереница людей. К концу 40-х годов общественный транспорт пришел и на нашу улицу: пустили автобус №6.
В сквере был и свой небольшой магазинчик. Но если надо было что-то купить, продать, обменять, то эту проблему решали на так называемом «маленьком базарчике», который находился в районе бывшей Пожарной (ныне улица Егорова). Туда рано утром съезжался народ из ближних сел, привозили все. Здесь можно было купить и сельхозпродукцию, и поросенка, и теленка, и всякую другую живность. Здесь же зарождался, как мы сейчас говорим, бизнес. Торговки (как тогда называли перекупщиков) скупали подешевле товар тут, а уже перепродавали на центральном рынке. Так что картина была вполне привычная, когда мычащего теленка, взгромоздив себе на плечи, тащат с маленького базарчика на центральный. В конце 30-х годов в этих местах построили новую школу №26. Она стала моей родной школой. Но школьные годы – это особый разговор.
Родители
Моя мама, Мария Филипповна, приехала в середине тридцатых в город из Аджамки. Профессии никакой, вот и пошла, совсем еще подросток, работать на стройку. Работа была адова: надевала наплечную сумку, спереди и сзади в нее складывала кирпичи и таскала все это по мосткам на верхние этажи – туда, где работали каменщики. Под конец дня не чувствовала ни рук, ни ног от усталости. Спустя несколько месяцев она поняла, что долго здесь не протянет, но тут волею случая ей помогли устроиться на швейную фабрику. Сначала работала подсобницей, но шустрая, любознательная девушка постепенно начала постигать основы швейного мастерства, став в результате швеей.
Моя мама умела читать, писать – вот, пожалуй, и все ее образование. Но это не помешало ей стать высококлассной швеей, а после курсов повышения квалификации (так они тогда назывались) закройщицей, имеющей всю жизнь отличную профессиональную репутацию и авторитет среди коллег и заказчиков. Умение шить и трудолюбие «кормили» ее, помогли выжить в эти трудные военные и послевоенные годы. Тогда же, в середине 30-х, она познакомилась с моим будущим отцом Ефремом, который был старше нее на 6 лет.
Судьба тоже немало испытывала парня на прочность. Родом он был из Винницкой области. В семье, кроме него, было еще три брата. Родители у них умерли, можно сказать, в один год, и четверо мальчишек остались сиротами. Младшему из них было всего три года, а старшему – тринадцать. Ефрему – десять, еще одному – шесть. Они категорически отказались переходить жить к дальним родственникам, заявив, что будут хозяйствовать сами. Как уж это им удавалось – одному Богу известно.
Сажали и обрабатывали огород, держали кур. Каждый имел конкретное задание, и даже самые младшие работали на общее дело. Конечно, односельчане помогали. В общем, выжили, с голоду никто не умер, все выросли, хотя и в страшной нужде и бедности: в доме не было практически ничего, спали просто на полу. Потом была служба в армии, а уже после нее отец оказался в Кировограде. Работящий, ответственный и очень общительный. Все это помогало ему в работе. Ну а еще чрезвычайно веселый человек, настоящая душа компании. Где он появлялся, там были радость, смех, веселье, песни и пляски. Он умел радоваться жизни. Жаль только, что она была у отца такой короткой, – в 39 лет он погиб, вытаскивая с поля боя раненого однополчанина.
Я рос без отца, как и многие мои сверстники. Безотцовщина, как тогда говорили. Меня воспитывали женщины: мама и бабушка. Но их целеустремленности, мужеству, самоотверженности и колоссальному трудолюбию могли позавидовать многие представители сильного пола. Редко мне читались нотации, их просто некогда было им читать, они все время работали. Мама в моей памяти осталась склоненной над своей кормилицей – швейной машинкой. Насколько я помню, мама практически ни разу не была в отпуске, приходилось брать компенсацию, чтобы решать очередную из многочисленных проблем. Привыкшая все добывать своим трудом, она имела четкие жизненные принципы и установки. В школьные годы летом мы, пацаны, ходили на Опытное поле. Там на полях зрели классные арбузы. Многие набирали их в мешок и тащили домой. Мне это категорически запрещалось. Я мог «от пуза» наесться их на поле, но домой ничего чужого я принести не мог: табу. Это касалось всего, и так было всегда…
Фото из архива семьи Кривенко.
















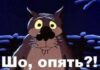





Кохання минуло — залишилися чеки: хто оплачуватиме витрати за скасоване весілля