Как месяц, лысый, грузный телом,
Он острых сплетен любит зодчество –
Поэт-чудак в костюме белом,
Чей вечный спутник одиночество…Георгий Цагарели, «Сторицын»
Наверное, сам Петр Ильич Сторицын назвал бы себя поэтом. Хотя стихи писал чудовищные. Поразительно, но этот человек, который безошибочно распознавал гениев среди собратьев по перу, близко дружил с Исааком Бабелем, Эдуардом Багрицким, Михаилом Зощенко, поддерживал первые литературные опыты Юрия Олеши, приятельствовал с Куприным, Мандельштамом и Маяковским, убожества своих собственных стихов не замечал.
Впрочем, стихи современники ему прощали. Посмеивались, но все-таки прощали. Потому что на самом деле «лысый, грузный телом» сплетник, прекрасный рассказчик и невероятный человек, как писал о нем Виктор Шкловский, Петр Сторицын сыграл огромную роль в истории русской литературы ХХ века.
Человек из ниоткуда
Родился Петр Ильич Сторицын (настоящая фамилия Коган) в Елисаветграде в 1877 году в семье банкира Эля-Бенциона Когана. Получил образование в Женевском университете и, по воспоминаниям современников, приехав в Одессу в 1914 году, работал инженером-химиком. Одновременно начал писать стихи под псевдонимом Сторицын (фамилию он позаимствовал у героя пьесы Леонида Андреева «Профессор Сторицын»).
Заместитель директора по научной части Одесского литературного музея Алена Яворская в статье «Спутник одиночества» пишет: «Он возник из ниоткуда. Говорили, что он не то анархист, не то террорист». А Виктор Шкловский, познакомившийся с ним в Одессе, писал: «Бывший химик, он же толстовец, он же рассказчик невероятных анекдотов, он же человек, оскорбивший герцога Баденского и явившийся потом на суд из Швейцарии, чтобы поддержать свое обвинение (но признанный ненормальным и наказанный только конфискацией лаборатории), он же плохой поэт и неважный рецензент, невероятнейший человек Петр Сторицын!»
Но этот плохой поэт и неважный рецензент сразу стал заметной фигурой в одесской литературной тусовке начала века. Поэт и переводчик, эмигрант «первой волны» Перикл Ставров писал в мемуарах: «Каждый вечер приходили в клуб молодые (действительно молодые!) писатели и поэты. Валя Катаев – в необычной форме. Он эти формы очень любил и впоследствии, в связи со сменой властей, их соответственно менял. Мы называли его гусаром, так как был он полон жажды “врубиться” в литературу, завоевать. Напористый был молодой человек. Приходил и Юрий Олеша, низенький, коренастый, талантливый и нахальный. Он тогда еще был поэтом, звезду Альдебаран воспевал, но будущее свое предвидел и о длинном романе заговаривал. Рыженький Ильф приходил на старших посмотреть. В те отдаленные времена он о славе не помышлял, а Петров был просто братом Валентина Катаева. Ильф – милый такой, умненький, молчит, молчит – только пэнснэ поблескивает – и вдруг слово такое скажет, что все расхохочутся. (…) Веселил нас “душа общества” Петр Сторицын. Лысый, толстый, потный, считался он среди нас отпетым стариком, хотя ему было всего лет сорок пять. Тем не менее, несмотря на пожилой возраст, у него оставался в Петербурге живой богатый папа. Папа, очевидно, на сына рукой махнул, но все же деньги время от времени посылал, а мы этими деньгами пользовались. Сборник стихов “Шелковые фонари” на эти деньги вышел. Поэтому Петр Сторицын шел у нас за мецената. Чудак был невероятный, графоман с сумасшедшинкой. Стихи писал плохие, но читал их, задыхаясь от восторга».
Насчет возраста «невероятного чудака» Ставров, которому самому в 1914-м было девятнадцать лет, конечно, ошибся. Одесский поэт Исидор Бобович об этом же периоде пишет: «Человек, увлеченный поэзией, он скоро стал центром и меценатом небольшой группы поэтов. По возрасту он был старше нас, ему было тогда лет 30-33».
А Валентин Катаев в книге «Алмазный мой венец» пишет: «Птицелов (Э. Багрицкий. – О.С.) принадлежал к той элите местных поэтов, которая была для меня недоступна. Это были поэты более старшего возраста, в большинстве своем декаденты и символисты. На деньги богатого молодого человека – сына банкира, мецената и дилетанта – для этой элиты выпускались альманахи квадратного формата, на глянцевой бумаге, с шикарными названиями “Шелковые фонари”, “Серебряные трубы”, “Авто в облаках” и прочее в этом роде.
Они даже свою группу называли “Аметистовые уклоны”. Где уж мне!»
А Александр Биск писал: «У него была большая едкость в суждениях, и умел он зло посмеяться и над самим собой. Он сам рассказывал про себя следующий случай: однажды он всю ночь пропьянствовал с Куприным, и уже на последнем этапе, часов в 8 утра, Куприн обратил на него свой мутный взгляд и спросил: “А как, собственно, Ваша фамилия?” И когда тот ответил: “Коган”, Куприн сокрушенно заметил: “Я так и думал…”»
Впрочем, во всех мемуарах об одесской литературной тусовке того времени упоминается этот толстый, лысый чудак, потрясающий рассказчик и душа общества.
«Сплетник»
Алена Яворская пишет о Сторицыне: «Очевидно, после приезда попал к нему в руки поэтический альманах “Шелковые фонари”, увидевший свет в Одессе в 1914. После этого – на свои ли деньги или на отцовские – Сторицын финансирует издание еще четырех. Выходят “Серебряные трубы”(1915), “Авто в облаках” (1915), “Седьмое покрывало” (1916), “Чудо в пустыне” (1917)».
И в другой статье о нем же: «Только сумасшедший мог в это военное время затеять издание поэтических альманахов, да еще со стихами никому не известных поэтов. Эти альманахи положили начало знаменитой одесской южнорусской литературной школе. Впрочем, их появлением мы обязаны не только Музам, но и Бахусу».
Среди авторов этих альманахов были Эдуард Багрицкий, Анатолий Фиолетов, Яков Галицкий (тоже наш земляк, автор текста песни «Синенький скромный платочек»), Александр Горностаев и… Владимир Маяковский! В 1916 году Сторицын специально ездил к Маяковскому в Петербург, чтобы попросить у него четвертую главу поэмы «Война и мир» для сборника «Чудо в пустыне». Рекламу этого одесского сборника Сторицын печатал в петербургском журнале «Театр и кино», там же он опубликовал небольшое интервью с Маяковским, указав: «В гостинице “Франция”, что на Морской помещается, мы с ним пили коньяк и обедали».
Вероятно, тогда же Сторицын «ссудил» Маяковскому 1000 царских рублей. Позже, уже в советское время, оставшийся практически без средств к существованию Сторицын попросил поэта вернуть долг. Об этом случае написано немало.
Художник Борис Семенов писал: «Петр Ильич Сторицын хорошо знал и крепко любил молодого Маяковского, верил в его высокую звезду. Он даже помог выпустить одну из первых книг Маяковского – раздобыл под каким-то предлогом у отца денег. О Маяковском Петр Ильич рассказывать не любил, он был обижен на него за то, что, оказавшись в полном безденежье, стал требовать, чтобы Владимир Владимирович возвратил тысячу рублей или, кажется, даже больше – сумму, которую одолжил ему еще при старом режиме. Маяковский прислал в конверте тысячу, но дензнаками 1921 года. Купить на них можно было разве что осьмушку махорки».
Маяковский написал о Сторицыне стихотворение «Сплетник»:
«Когда
у такого
спросим мы
желание
самое важное –
он скажет:
“Желаю,
чтоб был
мир
огромной
замочной скважиной.
Чтоб, в скважину
в эту
влезши на треть,
слюну
подбирая еле,
смотреть
без конца,
без края смотреть –
в чужие
дела и постели”».
А в стихотворении Маяковского «Сергею Есенину» есть такие строки:
«Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов».
Однако оскорбить Петра Ильича Когана-Сторицына таким образом было невозможно. Он понимал, что, с какой бы брезгливостью и отвращением ни писал о нем великий поэт, сам факт, что Маяковский писал о нем, уже возвышает его над толпой.
Ну и, чтобы закончить с поэзией, приведем все-таки стихи самого Сторицына:
«Взвулканив в высь над Петроградом,
Раскрыв воздушное манто,
Я к южным ветровым оградам
Направил розовый авто.
Туман небес, как волны, вспенив,
Я видел южные сады,
Где май лазорев и сиренев
Над синей радугой воды».
Или:
«В страну раскрывшейся Розеллии
Нас мчал фиолевый поток;
Наш плот – жасминный лепесток
И весла усики камелий».
Это все не пародии (они у Сторицына выходили намного лучше!), это на полном серьезе…
Где-то приходилось читать, что, мол, стихи графомана Сторицына редактировал Багрицкий. Но, почитав эти строки, с уверенностью можно сказать: нет, не редактировал…
«Рыдай в отдалении»
Борис Семенов записал рассказ Сторицына об отце: «Между Сторицыным-отцом и Сторицыным-сыном существовало полное непонимание и многолетняя вражда. Однажды старый мукомол опасно заболел, и мать, обегав злачные места Одессы, нашла Петра Ильича где-то в трактире на Молдаванке и велела немедленно пойти к отцу с покаянием.
(…)
Стиснув зубы, Петр Ильич вошел во мрак спальни. Из подушек глядели на него сверлящие глаза старика.
— Отец, я пришел рыдать на твоей груди…
После короткой паузы последовал ответ:
— Рыдай в отдалении!
Эта убийственно ехидная фраза вошла тогда в поговорку у многих литераторов. Если кто-то сетовал, что не успел получить аванс или какой-то студент отбил у него девушку, ему говорили, посмеиваясь: “Рыдай в отдалении”».
Эля-Бенцион Коган умер в Одессе в 1917 году, и, получив многомиллионное наследство (в октябре 1917-го!), Петр Сторицын сразу же отправился «рыдать в отдалении», а именно в Петербурге. Где-то приходилось читать, что он промотал отцовское наследство, поддерживая молодых поэтов. Но это вряд ли – он просто не успел.
В Петербурге-Петрограде-Ленинграде Сторицын работал журналистом, печатался в журналах «Театр и кино», «Звезда» и др., писал рецензии на книги, спектакли, балетные постановки, но всегда остро нуждался в деньгах.
13 апреля 1925 года Корней Иванович Чуковский записал в своем дневнике: «13 апреля 1925 года: В воскресение был у меня И. Бабель. Когда я виделся с ним в последний раз, это был краснощекий студент, удачно имитирующий восторженность и наивность. Теперь имитация удается хуже, но я и теперь, как прежде, верю ему и люблю его. Я спросил его:
— У вас имя-отчество осталось то же?
— Да, но я ими не пользуюсь.
Очень забавно рассказывал о своих приключениях в Кисловодске, где его поместили вместе с Рыковым, Каменевым, Зиновьевым и Троцким. Славу свою несет весело. “Вот какой анекдот со мною случился”. Жалуется на цензуру. Рассказывает о Петре Сторицыне: Сторицын клевещет на Бабеля, рассказывает о нем ужасные сплетни. Бабель узнал, что Стор. нуждается, и решил дать ему червонец, но при этом сказать:
— Деньги даром не даются. Клевещите, пожалуйста, но до известного уровня. Давайте установим уровень».
А ведь Сторицын и Бабель много лет были близкими друзьями! Жена писателя Антонина Пирожкова писала, что Сторицын подарил Бабелю сюжет рассказа, «Первый гонорар». Впрочем, может, и не только этого рассказа, и не только Бабелю. Современники Петра Сторицына пишут, что рассказчиком он был просто удивительным, и сюжеты его рассказов были в тысячи раз лучше его бездарных стихов, но писать эти рассказы ему было лень…
«Мои американские горы»
Сторицын оставался «душой общества». Советский литературовед Юрий Томашевский пишет: «Говорят, что жизнь украшают чудаки. Одним из таких окололитературных чудаков был Петр Ильич Сторицын.
Он был старый холостяк, образованный, умный, злой.
В прошлом он был очень богат. Петр Ильич промотал отцовское наследство, помогая писателям. Говорят, он много помогал Бабелю, Олеше, Багрицкому.
Ежедневно Сторицына можно было встретить в ресторане “Европейской” гостиницы. Он садился с газетой и заказывал самое дешевое – макароны с сыром и боржом. Он сидел, читая газету, и прихлебывал боржом, терпеливо дожидаясь, пока не появится кто-нибудь из писательской братии и не перетащит его за свой стол. Он тяготел к писателям, не мог дышать вне атмосферы литературных разговоров и острот.
Сам он был рассказчик замечательный – острый, меткий, злой, и когда бывал в ударе – был неповторим.
Михаил Михайлович (Зощенко. – О.С.) очень любил Сторицына. Без конца давал ему деньги, поил, кормил, но это нисколько не мешало Петру Ильичу, ради красного словца, платить Зощенко черной неблагодарностью.
“Послушайте, послушайте, – говорил он, по своему обыкновению захлебываясь и брызгая слюной, – знаете, чего не хватает Зощенко для полного счастья? Для полного счастья ему не хватает мании величия. Он обманул партию, он обманул правительство, он обманул читателей, он обманул писателей, но сам-то он знает, что он не Вольтер”.
Михаилу Михайловичу, бывшему тогда в зените славы, было хорошо известно все то, что говорил о нем Петр Ильич, и, тем не менее, он все ему прощал и без конца возился со злым и неблагодарным старым чудаком».
А художник Борис Семенов в рассказе «Время моих друзей» писал: «Кто-то из литераторов (кажется, это был А.Е. Горелов) взял меня с собой – а было это, пожалуй, в тридцатом году – в закрытую столовую КУБУЧа на Невском (КУБУЧ – Комиссия по улучшению быта ученых, но писатели были тоже причислены к ученому миру). Там кормили вкусно, не хуже, чем в “Астории”. За столом сидел с нами пожилой, тучный, неряшливо одетый человек, похожий на артиста Варламова или на безобразного пьяницу Силена с картины Рубенса; у него были обвисшие щеки, красноватый нос и маленькие глаза. Пока мы обедали, а он говорил, я успел вполне оценить изящный блеск сторицынского остроумия.
— Вы знаете, – говорил он, – я придумал название для автобиографической повести – “Мои американские горы”. Ну как, неплохо? В одной фразе – вся моя жизнь».
То, что колоритного Сторицына любили писатели и художники, в общем-то, понятно. Но его почему-то обожал советский историк, академик Евгений Викторович Тарле. Его ученик, тоже в будущем академик Пах писал: «Очень тепло относился Е. В. Тарле и к такому своеобразному человеку, занимательнейшему рассказчику, каким был Петр Ильич Сторицын. О Петре Сторицыне, ранняя юность которого прошла в дружбе с Эдуардом Багрицким, в свое время превосходно рассказал Виктор Шкловский.
Я неплохо знал Петра Сторицына; он был, что называется, чудак, жил одиноко, нередко впроголодь и умел сверкнуть “находками” самого разнообразного свойства. Стихов он не писал уже давно, но зато сочинил цикл рассказов о собственном отце – миллионере, самодуре, по безграмотности так и не сумевшем до самой смерти сосчитать собственные богатства. Эти рассказы прочитал Горький, он похвалил в них живость и своеобразие интонаций, но печатать не советовал.
Сторицын работал корректором, иногда “прирабатывал” рецензиями, которые писал не только в отличной стилистической форме, но и с такой основательной подготовкой, каковая свойственна только настоящим знатокам своего дела. Чтобы написать небольшую рецензию, он мог неделями сидеть в библиотеках, изучать обильную литературу предмета и сделать из нее самобытные выводы.
Был Сторицын большим мастером устного рассказа, любил находить короткие, меткие, порой убийственные характеристики. «Жизненный его девиз, – говорил он, к примеру, об одном субъекте, – заключен всего в двух словах: “Пища! Пища!”» Иногда, отправляясь со своими корректурами в издательство, Сторицын “ловил” собеседника у входа в ленинградский Дом книги и “комментировал” входящих и выходящих литераторов, обдавая их сарказмами. Многие относились к Сторицыну несерьезно, принимая его чуть ли не за “шута”. Но люди умные, большие, проникновенные умели отбросить наносное и заглянуть в его истинное содержание. Не случайно о нем заботились, помогали ему, раздобывали для него работу такие крупные ученые, как
В. А. Десницкий и Е. В. Тарле.
(…)
С грустью сказал Евгений Викторович о том, что Петр Сторицын скончался в первую блокадную зиму. Я рассказал ему, что Петр Ильич не переставал подшучивать в первые месяцы войны (потом я его уже не встречал). “Да, – сказал Тарле, – приятно, что юмор его не покидал”».
Петр Сторицын умер от голода в блокадном Ленинграде зимой 1942 года. Его богатейший архив и библиотеку сожгли соседи, которым нужно было чем-то топить печку… Считается, что единственный сохранившийся его портрет – рисунок художника-кубиста Сандро Фазини (родного брата Ильи Ильфа) для одного из одесских альманахов…



















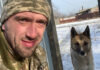


№17 (1586)