Пожалуй, никто из множества елисаветградских писателей так тонко, точно, интересно и даже трогательно не описал тот город, как Дон-Аминадо («Байгород» все же о другом). Книга в целом автобиографическая, чем-то по стилю мне субъективно напоминает «Исповедь сына века» Альфреда де Мюссе. Только у Аминодава Шполянского (настоящее имя Дона-Аминадо) получилось веселее. Почему-то захотелось сравнить те главные символы города сто с лишним лет назад с сегодняшними. Не для восхваления одних или унижения других. Просто чтобы видеть, как меняется мир, как меняется жизнь.
«Держался город на трех китах: Вокзал. Тюрьма. Женская гимназия.
Шестое чувство, которым обладал только уезд, было чувство железной дороги.
В названиях станций и полустанков была своя неизъяснимая поэзия, какой-то особенный ритм, тайна первого колдовства и великого очарования. Можно пережить три войны и три революции, переплыть моря и океаны, пройти, считая время по десятилетиям, долгий и нелёгкий путь изгнания, усвоить все существующие на свете Avenues и Street’ы – и чудом сохранить в благодарной памяти татарские, ногайские, российские слова.
– Первый звонок на Фастов – Казатин! Поезд – на первом пути!
– Знаменка. Треповка. Корыстовка».
А на каких трех китах держится сегодня Кропивницкий? И какое у него шестое чувство? Еще про советский Кировоград можно было бы написать, что это были заводы, летное училище и футбол, а шестым чувством было чувство глубокой провинциальности: «Вы откуда? – Из Кировограда. – А это в какой области?» (Опять же, это все глубоко субъективно.)
Но уже тогда железная дорога утрачивала свой вес и смысл, в советское время никто из тогдашних литераторов не додумался бы искать какие-то сущности и дух на вокзале.
А что сейчас? На каких трех китах держится город? Рискну заявить, что это рынки, супермаркеты и маршрутки. Где кипит основная жизнь (вне зависимости от карантинов)? В торговых местах. Весь город торгует, непонятно иногда даже, а кто покупает? Продавшие свой товар покупают чужой… И все обсуждают маршрутки…
Дон-Аминадо называл в книге город Новоград, как Яновский – Байгород. Обычная литературная практика. И его большой особенностью Аминадо считал нелепость планировки города.
«От вокзальной площади – самый вокзал, как некий форум, стоял на возвышении, – причудливыми зигзагами разбегались вниз неповторимые, непроходимые, непостижимые, то заходившие в тупички, то друг дружку обгонявшие и пересекавшие, русские, южно-русские улицы.
Не до того было светлейшему князю Потёмкину-Таврическому.
Быстро надо было действовать, распределить, назначить, устроить; как на ладони преподнести Государыне-Матушке, императрице Екатерине, сочинённый первым губернатором, двадцатичетырехлетним дюком Арманом де-Ришелье, с собором посередине, с крепостными валами вокруг, с изгородями и палисадами, с косыми деревянными башнями, – новый, великолепный град Новоград.
По княжьему хотенью, по щучьему веленью, во мгновение ока замостили военнопленные турки, да приведенные в покорность запорожцы, – знаменитые, несравнимые, в нелепости своей непревзойденные новоградские улицы.
И вот прошли и пробежали годы, и уж и целое столетие мохом проросло, а они все те же, и улицы, и мостовые, в первозданной своей красе, в трогательном своём убожестве, в нетронутом целомудрии.
А на окраине города – Казённый сад, с высокими украинскими тополями, а под сенью тополей выщербленные от времени скамейки, и вырезанные на них перочинным ножом дни, месяцы, годы, вензеля, имена, инициалы, и пронзённые стрелой отлюбившие, перегоревшие, испепелённые сердца».
В нынешнем городе с этим получше. Новые микрорайоны построены не как в абсолютно геометрическом Нью-Йорке, конечно, но вполне логично и правильно просто. Хотя где-нибудь в глубинах Балки, Кущевки, Завадовки или Балашовки пришелец с Жадова легко заблудится.
А вот эти строки Дона-Аминадо можно даже и не комментировать, всё сами знаете: «Деревянная каланча, деревянные тротуары, страшные, в ухабах и рытвинах, смертоубийственные мостовые, по которым громко тарахтят крестьянские возы, допотопные биндюги, молдаванские балагуры, цыганский шарабан».
Наверное, не стоит объяснять абонентам водоканала, почему и сегодня вот эти строки кажутся актуальными: «…Уездная гордость! – бочка водовоза.
“В те баснословные года” – великий это был персонаж, можно сказать, первое лицо в городе.
То есть не то что так, здорово живёшь, в буквальном смысле слова. Но все же, по замыслу, по значению, после городского головы Пашутина, полицеймейстера Бессонова и участкового пристава Падейского – первое лицо безусловно.
Ведь, как ни хитри, как одно к другому ни подгоняй, а истории не переделаешь. И факт остается фактом: до степей Новороссии римские легионы так и не дошли и никаких виадуков в наследие грядущим векам не оставили.
А жить хотелось красиво!..
А воды в Ингуле только и хватало, что для весеннего наводнения.
Вот своим умом и додумались, и всё отлично устроили и наладили. Высоко на горе, за вокзальной площадью, сложили из красных кирпичей водонапорную башню; внизу, в самом центре Новограда, построили общедоступные бани с дворянской половиною; а для ежедневных нужд счастливого населения ездили по городу неуёмные водовозы с огромными, громыхавшими, расхлябанными бочками.
И за полкопейки, то есть за медный грош наличными деньгами, кто угодно мог получить два полных ведра на всё про всё, на целые сутки, для стряпни, для варки, мытья и бритья, и прочих культурных излишеств.
И глядишь, и без виадуков справились».
А вот в этом плане, кажется, ничего не изменилось, даже названия снова те же: «Главных улиц в Новограде было две. Дворцовая и Большая Перспективная.
Одна – чинная, аристократическая, для праздного гуляния и взаимного лицезрения.
Другая – торговая, шумная, несдержанная, и, невзирая на своё обещающее наименование, без всякого даже слабого намёка на Перспективу.
Задумываться об этом никому и в голову не приходило, а такое замысловатое слово, как урбанизм, ни в каком еще словаре и найти нельзя было.
Но, конечно, какое-то глухое соперничество, невольный антагонизм, смешанный с инстинктивным, молчаливым, но обоюдным презрением, упорно и неискоренимо существовал между двумя этими новоградскими артериями».
А как автор вспоминает подготовку к зиме! «Наглухо запирали окна, устилали ватным покровом начисто выбеленные подоконники, на вату для пущей красоты, и непременно зигзагом, укладывали нитку красного гаруса, по обе стороны художественно разбрасывали чёрные угольки, и на равном расстоянии друг от друга, в священнодейственном творческом восторге расставляли невысокие пузатые стаканчики с крепким красным уксусом». Черт побери, точно так было в доме моего детства! Кроме красного уксуса, это уже было утеряно…
Не знаю, почему писатель среди трех китов города назвал тюрьму. Дальше в книге о ней ни слова. Зато как много написано о театре! Даже больше, чем о железной дороге, она у него вообще символ его кочевой жизни. А театр…
«Одним из страстных увлечений ранних гимназических лет был театр.
Только в провинции любили театр по-настоящему. Преувеличенно, трогательно, почти самопожертвенно, и до настоящего, восторженного одурения.
Это была одна из самых сладких и глубоко проникших в кровь отрав, уход от повседневных, часто унылых и прозаических будней, в мир выдуманного, несуществующего, сказочного и праздничного миража».
«Когда на сцену, в белой тунике, выходила Психея, Юренева, и молитвенно складывала руки на груди, – в те годы это был классический приём, которым выражалось и подчёркивалось целомудрие, – глаза были устремлены к небу, с которого, по недосмотру машиниста, спускались оскорбительные веревки, – и навстречу Психее, из глубины полотняных декораций, колыхавшихся от тяжеловесной походки легкокрылого Эроса, шёл, тяжело дыша, сорокалетний первый любовник, и низкой октавой начинал:
Я Эрос, да! Я той любви создатель,
Что упадает вглубь и рвется в небо, ввысь,
Я жизни жертвенник, я щедрый мук податель,
Начало и конец во мне всего слились…
И, не переводя дыхания, швырял неосязаемую бесплотную Психею на пыльный ковёр, – ну, тут провинция не выдерживала!
Стоном стонал пятиярусный, до отказу переполненный театр.
Восторг не знал границ, умилённое восхищение не имело пределов.
А самое изумительное заключалось в том, что подавляющее большинство потрясённых зрителей, девяносто девять на сто, и понятия не имели ни об Эросе, ни о Психее, ни о символах, ни о мифах.
Но так велика была потребность в музыке непонятных слов, пламени театральных треножников, во всех этих бесконечных перевоплощениях Психеи, которая так ни на миг и не поколебала веры в свою первозданную девственность, так хотелось этой самой творимой легенды, что эх! хоть раз в жизни, но красиво!.. – бис! бис! бис! браво, Психея! браво, Юренева! занавес! занавес! еще раз занавес!
И, надрывая лёгкие, в умилении, в исступлении, в изнеможении, отдавала уездная, честная, настоящая публика свою неумеренную дань святому искусству».
Сегодня, положа руку на сердце, ценителей, реально любящих театр, в городе осталось… будем оптимистами, несколько сотен. При всем великолепии театра, классном режиссере Курмане. Нету публики той.
«Боже, с каким трепетом входили мы в храм искусства!
И как знали наизусть все эти ложи бенуара, бельэтажа, директорскую ложу, и все кресла первого ряда, на которых белели тщательно выписанные картонки: кресло господина полицеймейстера; товарища городского головы; управляющего акцизным сбором; начальника пожарной команды, бранд-майора Кологривова; и три кресла для представителей печати…
Печать была представлена довольно широко:
– “Ведомости Городского Новоградского самоуправления”.
Прогрессивный “Голос юга”, под редакцией Димитрия Степановича Горшкова, впоследствии – члена Государственной Думы.
И, наконец, “Новоградские новости” Лапидуса.
Имени-отчества у Лапидуса не было, что отчасти определяло направление газеты.
Отчёты и театральные рецензии могли взбудоражить самое спокойное и насыщенное воображение.
Стиль был приблизительно такой: “…прелестная Жданова-Нежданова в роли Маргариты Готье художественно изобразила знаменитую сцену конвульсий в последнем акте!.. Смерть от чахотки буквально заразила весь театр. Вообще вся труппа была на высоте, чего нельзя сказать о погоде… По окончании спектакля пошёл проливной дождь, что, впрочем, нельзя поставить в вину директору труппы, г. Эльскому”.
В конце рецензии, в зависимости от добрых или худых отношений, в которых находился автор с отставным ротмистром Кузмицким, следовал обыкновенно один и тот же стереотип, в двух неизменных вариантах.
– Театр был наполовину полон, – писал друг искусства и ротмистра.
– Театр был наполовину пуст, – писал ядовитый Зоил».
А насколько Елисаветград Дона-Аминадо был политически озабочен? Судите сами: «Помню, как пришли в Новоград первые номера “Сына отечества” С. П. Юрицына.
Как жадно набросились на столичные сатирические журналы – “Пулемет” Шебуева, “Сигнал” Корнея Чуковского, “Жупел” Гржебина, “Маски” Чехонина, “Зритель”, “Серый волк” и другие, – имя им легион, – вспыхнувшие как фейерверк, и бесследно пропавшие в темноте снова наступившей ночи.
Единственный в городе газетный киоск, на углу Дворцовой и Большой Перспективной, сразу сделался источником света, очагом и распределителем гражданских чувств, надежд и обольщений.
Появились новые слова, которым на первых порах и верить не хотели, слова, заключавшие в себе нечто совершенно неизвестное, волнующее, слишком великолепное и, стало быть, неправдоподобное.
– Избирательное право… конституционная монархия… Государственная Дума.
А вслед за новыми словами и новые понятия, и новые лица, новые имена.
И по всему лицу обновлённой и осчастливленной родины – пивные и чайные Союза Русского Народа.
И патриотические манифестации, с портретом государя, и пением “Боже, Царя храни”…
И навстречу студенческие демонстрации, и нестройный хор – “А деспот пирует в роскошном дворце”!
А по тротуарам скачут казаки, лихо работают нагайками, морду в кровь, – разойдись, сволочь!
И вот она, быстрая расплата за короткие обольщения, за недолгую “весну”, за Октябрь, роковой месяц российского календаря.
Будем правдивы, первая революция прошла мимо, только слегка задев, но еще не ранив молодых сердец».
В каком городе жить было интереснее или есть интереснее – выбирайте сами. А «Поезд на третьем пути» прочитайте, не пожалеете. Книга была впервые издана в Нью-Йорке, вызвала много восторгов. Как написал один из рецензентов, Дон Аминадо «роскошничает своим даром».









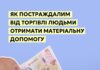


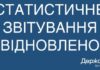









Смачні пироги в Києві: куди піти